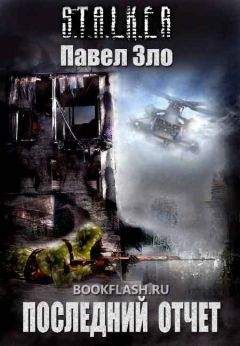— Все это чушь! В медицине мудаков не меньше, чем в тюряге, — громыхал Аврабий, а он и вправду громыхал, ударяя кулаком по столу, — не читай лежа, не напрягай глаза в сумерках, не читай в транспорте! Глаза — те же мышцы! Начнешь жалеть — зрение атрофируется. В общем, эта книженция для тебя — вроде Библии для монахов. Попробуй ослушаться — ад гарантирован! Если хочешь, дед, последние годы, или, кто знает, месяцы, провести не во мраке преисподней, который для тебя и так скоро наступит, придется подчиниться товарищу Бейтсу. Ну, будь здоров! — он снова выпил, и опять до дна.
В том, что у окулиста большие проблемы с головой, Валентин убедился, начав читать книжку не менее странного американца. Начал читать — громко сказано. Шрифт был настолько мелким, а умеющие летать листки — такими замусоленными, что своими глазами Валентин не различил бы и названия глав — а их напечатали куда более крупными буквами. Читал Валентину Индеец — один из одиннадцати сокамерников, смуглый молдаванин, действительно напоминающий то ли индейца, то ли мексиканца. Чтец из Индейца был такой же, как из Валентина — тот особо ценимый капитаном матрос, которому доверяют, за его ястребиное зрение, почетное право первым увидеть долгожданную сушу на горизонте.
Запинаясь через слово, Индеец то повторял одну и ту же строчку, то пропускал целые абзацы, а то и вовсе путал очередность рассыпавшихся страниц. И все же, вопреки стараниям неумелого чтеца, от мысли покончить с собой Валентин отказался окончательно. Единственный человек, которого бы он с удовольствием вздернул, был профессор Бейтс — занудный, как оказалось, садист, больше всего на свете ненавидящий полуслепых стариков.
«Пол–литра медицинского спирта за такое дерьмо?», недоумевал Валентин, вспомнив еще одного человека, которому самое место на одной виселице с Бейтсом.
«Если окажется, что все это чушь…», грозил неизвестно кому Валентин. Но другого выхода — в этом Аврабий был прав — не было, так почему бы и в самом деле не довериться не внушавшей ни малейшего доверия книжке? Разве в Библии больше правды?
— Ну что, все прочли? — торопит адвокат.
Он уже минут десять, как начал ежиться и вертеться на стуле, и у него синеет под ногтями: здесь, в комнате для встреч с адвокатом, она же камера допросов, никогда не бывает жарко. Поговаривают, в этих стенах, прихватив с собой бутылек и девочек, коротает знойные июльские деньки начальник караула, для чего в камеру специально заносят его личный кожаный диван.
— Немного осталось, — бормочет Валентин, тыча пальцем во второй абзац снизу.
Валентин и в самом деле застрял на предпоследнем абзаце, вот только читает он письмо, вернее, не совсем письмо Рубца, уже в третий раз. Он прочел бы его и пять, и десять раз, и не променял бы ни на какого Дюма, даже если бы Валентину сказали, что послание Рубца — последнее, что он читает в жизни. Ему хотелось разрыдаться — прямо здесь, в присутствии адвоката, и он еле сдержался.
Неужели дождался? Оно ли самое?
Пять лет Валентин ждал, если не объяснений, то хотя бы весточки от Рубца. Весточки и в самом деле приходили, но ясности они не добавляли, скорее наоборот. Трижды Валентин находил под матрацем конверт с кипой отпечатанных листков внутри. Не подписанные, письма эти, безусловно, принадлежали авторству Рубца, и Валентин не раз корил себя за опрометчивое невнимание, с которым он выслушал, вернее — пропустил мимо ушей отрывок из книги, прочитанный Рубцом в тот памятный день. Теперь эти главы приходили к Валентину целиком, но относился он к ним совсем иначе — также оказавшаяся в пустыне рыба относится к воде.
Касапу чувствовал себя разведчиком, ищущим нужный код среди вороха наполненных бредом бумаг. Он выучил письма наизусть. Он читал текст через слово. Читал по первым буквам каждой строки. Находил в последующем сообщении явный намек на предыдущее и наоборот. К моменту, когда он распечатал конверт с четвертым письмом, прибывшим в портфеле адвоката, Валентин больше года не тревожил порядком измятые листки, придавленные потайным камнем в стене.
Четвертое письмо безжалостно уничтожило загадку предыдущих — никаких кодов в них, конечно, не было. Но Валентин не жалел — сумел бы он обнаружить зашифрованное послание в четвертом письме, если бы не мучался над предыдущими тремя? Сомнений не оставалось — перед Валентином был код, и он его расшифровал.
Только вот если бы Валентина, как человека сведущего, спросили, на какую высшую гнусность способен Рубец, он поднял бы дрожащей рукой это самое четвертое письмо — три набранных на компьютере листка. Сравнивать Валентину было с чем: после дешевой медицинской брошюрки он прочел книг больше, чем за всю предыдущую жизнь.
Спасибо библии Бейтса!
Из нескольких имевшихся в тюремной библиотеки изданий Гулливера Валентин выбрал самый тонкий экземпляр: американский профессор настаивал на шрифте помельче. Касапу читал и чувствовал себя великаном, возвышающимся над мелкими, покорными лилипутами, а он и вправду читал книгу стоя и до тончайшей черточки видел каждую из микроскопических буковок. Вечерами, когда солнце стремительно, будто брезговало прикасаться лучами к решеткам на тюремных окнах, закатывалось куда–то за высокие стены, Валентин погружался во тьму вместе с ненавидимым прокуратором городом, и все равно его видел, несмотря на полумрак камеры. Вместе с князем Болконским он падал — нет, не на поле под высоким аустерлицким небом, а на нары у окна и яснее, чем когда–либо, видел небо Аустерлица, видел Болконского, видел Кутузова и Багратиона. Он видел эти и все остальные буквы, слова и предложения в каждой из прочитанных книг и готов был украсть для Аврабия цистерну спирта, только бы эта сказка не заканчивалась. Он с радостью прочел бы и графа Монте — Кристо, вот только Арсений Казаку — тихий сорокалетний ребенок, неизвестно за какие грехи сосланный в тюремные библиотекари, в ответ на просьбу Валентина шарахнулся, как от привидения, пробормотав что–то невнятное о списании фондов.
— Беднягу, наверное, кондратий хватил! — хохотал пахан Македонский, узнав от Валентина о странном поведении библиотекаря, — а говорят библиотекарь — самая безопасная профессия. Ты что, в натуре не знал?
Покрасневший Валентин лишь развел руками. И в самом деле, неудобно получилось. Но он и вправду не знал об этом суеверном табу, из–за которого ни в одной библиотеке ни одной тюрьмы мира не найти знаменитого романа Дюма.
— Эх, еще бы таблицу Снеллена, — вздыхал окулист, открывая флакон со спиртом, пропавший из процедурной.
С того дня, как Валентин повесился, здоровье все чаще беспокоило его, что, впрочем, никого не удивляло — Валентин был старейшим обитателем кишиневской тюрьмы. Он часто падал в обморок, и в госпитале, куда его каждый раз отвозили, регулярно пропадали сосуды со спиртом — обычно это происходило в процедурной и пару раз — в реанимации. Шуметь о пропажах никто не собирался: медики приписывали этот грех друг другу и молчаливо прощали коллег, в надежде, что в следующий раз простится и им. Валентин же, изображая облегчение так же достоверно как имитировал обморок, спешил в кабинет окулиста, который, узнавая старика по шарканью в коридоре, заранее напяливал на лицо сердитую маску, ликуя, тем не менее, в душе.
— Где же этого Снеллена взять–то? — озабоченно бормотал Аврабий, — впрочем, есть не хуже, — он ткнул пальцем на плакат на стене.
Это была таблица Сивцева — икона советской офтальмологии всех времен. Даже Валентину казалось, что она была всегда — все неполные восемьдесят лет его жизни.
— Держи, — протянул Аврабий свернутый в рулон плакат, — а я составлю бумагу, чтобы тебе разрешили.
Таблицу Сивцева, с выцветшими пятнами на лицевой стороне и пожелтевшими полосками лейкопластыря — на обратной, сокаремники Валентина повесили на стене, прямо напротив его кровати, так чтобы Касапу мог упражняться даже лежа.
Что он и делал трижды в день: поначалу с раздражением, а затем, когда отрицать успехи уже не имело смысла — с радостью собравшего, наконец, конструктор ребенка.
— Ша–бэ. Ы–эм–бэ-ша. И–эн–ша-эм–ка. Ка–эн–ша-эм–ы–бэ-и, — прикрывая ладонью то один, то другой глаз, повторял Валентин с таким старанием, словно произносил заклинание, после которого должно произойти чудо.
Оно и в самом деле случилось — чудо. Другого слова Валентин, хотя и прочел уже с десяток книг, подобрать не мог.
Зато мог выписать подробный рецепт.
Итак, закройте обеими ладонями глаза — так, чтобы пальцы перекрещивались на лбу, стараясь при этом не давить на глазные яблоки. Процедуру повторять раз в сутки после наступления темноты.
Вспомните несколько цветов на выбор — например оранжевый, зеленый, красный. Постарайтесь, чтобы ваша память воспроизвела их с максимальной яркостью, при этом не задерживайте внимание на каждом цвете более одной секунды. Уделяйте этому упражнению не менее пяти минут ежедневно.
![Сергей Дигол - Старость шакала[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)